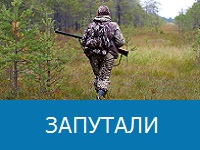№40 от 24 октября 2013 г.
Свежие новости
В Рязани выявили очередное превышение сероводорода
(06.07.2024)
Тайны Малковского двора
(06.07.2024)
Племянник не выжил
(06.07.2024)
Одной проблемой меньше
(06.07.2024)
«Трубадур» из раздробленной Руси
(05.07.2024)
В Рязани задержан участник парада на Красной площади
(04.07.2024)
Мэр-гидрометцентр
(04.07.2024)
Власти услышали «Новую газету»
(03.07.2024)
Переполох в администрации города
(03.07.2024)
В салоне +41
(03.07.2024)
Латание дыр в режиме многозадачности
(03.07.2024)
Военные пенсионеры не получили пенсию за июнь
(02.07.2024)
Олеся Мовсина – раздвоение литератора
.jpg)
Давно уже сбился со счета, сколько же знакомых уехало из Рязани в Москву и Питер. Десятки? Уже сотни? Все-таки Рязань не слишком располагает ни к тому, чтобы деньги зарабатывать, ни к тому, чтобы творчеством заниматься – городок слишком дикий и нищий, чтобы можно было в нем себя полноценно реализовать.
Лет 15 назад, когда тут выходил неплохой литературный журнал «Devotion», одним из основных его авторов была молодая поэтесса Олеся Воронцова. Теперь Олеся давно не Воронцова, а Мовсина, сочиняет больше прозы, чем стихов, и живет давно уже не в Рязани, а в Питере, хотя и родной свой город не забывает – возвращается регулярно. Вот и прошлым летом тоже вернулась ненадолго.
– Олеся, когда ты была еще не Мовсиной, а Воронцовой, и жила не в Питере, а в Рязани, все знали тебя как поэта – например, ты много печаталась в журнале «Devotion», единственном тогда серьезном литературном издании города. Но в последнее время, как я знаю, ты пишешь много прозы и сочиняешь детские сказки. С чем связано такое смещение акцентов в творчестве? И есть ли уже какие-то материальные плоды: публикации, книги?
– Когда в жизни человека возникает нечто новое – событие или обстоятельство, – оно не обязательно заменяет или затмевает старое. Появление в моем творчестве прозы не отменило стихов, как и переезд в Петербург не отнял у меня Рязани. Наоборот, возникло новое чувство к родному городу, трепетно-ироничное, а друзей, оставшихся здесь, я стала любить и ценить намного сильнее. Я давно говорю, что я – как кот Матроскин, «теперь вдвое счастливее, потому что у меня две коровы есть». У меня два любимых города, два любимых сыночка, две любимые работы, а друзей и всяческих увлечений – не сосчитать. У меня вообще всего много, и от этого настойчива во мне потребность делиться своим богатством с окружающими. Наверное, из такой потребности и растет творческий импульс. Особенно это касается прозы. Если стихи – некое про себя бормотание, и я даже не стремлюсь к тому, чтобы они кому-то нравились, то в рассказах и повестях мне хочется говорить о людях и для людей.
– И что это за люди, на которых ориентировано твое творчество?
– Это вопрос для меня довольно интересный и в некоторой степени даже мучительный. Образ потенциального адресата у меня никогда не совпадает с конкретным читателем. Реакция моих друзей на прочитанное всегда очень неожиданная, причем одним нравятся одни мои вещи, и резкое неприятие вызывают другие. И наоборот. Этой весной в издательстве «Геликон+» вышли две мои книги: «Рассказы» и роман-сказка «Чево». Из тех моих знакомых, кто прочитал обе эти книги, нет ни одного, кому понравилось и то, и другое. Рассказы написаны традиционным, простым языком – о простых людях, которых можно любить и жалеть. «Чево» – это роман-игра, загадка, ловушка с сюжетом и языком, в которых черт ногу сломит. Но многим он все-таки оказался по зубам, и это приятно.
В моем следующем романе «Про контра и цетера», который буквально на днях вышел из типографии, я продолжаю с любовью и нежностью издеваться над русским языком, проверять на прочность его и нервы читателя, но композицию и сюжетные линии слегка упрощаю. Поэтому есть надежда, что и читатель «Рассказов» и читатель «Чего» найдут там для себя что-нибудь приятное.
– Можно поподробней о новом романе? Что там за сюжет, какие герои, с кого ты их писала и так далее...
– Можно сказать, что это роман о неоднозначности причинно-следственной подоплеки событий, о том, что за А не всегда должна вышагивать Б. И можно сказать, что это история отношений двух девушек, одна из которых вызывает у людей ассоциации со смертью, а вторая – с любовью. Красавица с косой и ее подруга жить не могут – ни вместе, ни врозь – и постоянно делят между собой явления этого мира, тянут каждая на себя одеяло, то есть мужчину, то есть человека в широком смысле. И при этом не перестают восхищаться друг другом. Те, с кого я писала портреты (называть я их, конечно, не буду), – сами все знают, они уже свое отобижались при первом прочтении, мы с ними уже все много раз обсудили. Главное, они понимают, что герой – это не точная копия прототипа, а нечто вылепленное из авторских ассоциаций, из тех, что навеяны множеством разных людей и событий. И, к прискорбию моему, некоторых людей, описанных в романе, уже нет в живых.
– Расскажи, пожалуйста, о своей питерской работе. Насколько я знаю, ты успела на радио поработать, а сейчас на тамошнем телевидении переводчиком трудишься.
– И на радио, и в газете «Санкт-Петербургские ведомости», и в издательстве «Симпозиум» – везде понемножку успела. Сейчас действительно перевожу кино и мультики, а параллельно учу детей – своих и чужих – языкам: русскому и английскому. Словом, пытаюсь сеять разумное-доброе-вечное на разных полях.
– Если говорить о собственном самоощущении, то кем чувствуешь себя в первую очередь – писателем? переводчиком? педагогом? еще кем-то? Написание книг ведь, так уж повелось, на уровень жизни не сильно влияет, если ты не Борис Акунин или Сергей Лукьяненко. Нет ли желания все бросить и заняться только литературой?
– Конечно, существует где-то в голове образ: загородный домик, и я вся такая, полная вдохновения, сижу на залитом вечернем солнцем балконе, помешивая одной рукой чай, а другой – строчу безостановочно нетленные строки. Красивый, хотя довольно пошлый образ. Не знаю – если такое когда-то и случится – будет ли мне о чем писать? Сейчас для меня практически неразделимы моя работа и материал для творчества. Ведь, общаясь с людьми, я понимаю, о чем писать, а работая с языками, понимаю – как писать. Конечно, хотелось бы, чтобы на творчество оставалось больше времени. Но я никогда не изменю ни строчки в прозе ради коммерциализации своих книг. И мне непонятны и неприятны все споры о так называемом пиратстве в искусстве. Если ты хочешь зарабатывать деньги, найди себе правильную работу, а если ты хочешь сказать что-то новое и интересное, говори и не жди, что тебя за это озолотят.
– Я знаю, что в Питер ты уехала, чтобы учиться там в аспирантуре – в Рязани такой возможности не было. То есть это была тогда чисто учебная потребность? Или, может, помимо этого, было и желание сменить местожительство с глухой, в общем-то, провинции на «культурную столицу»? Если было такое, то сейчас, по прошествии уже довольно продолжительного времени, как ты думаешь, эти ожидания оправдались?
– Потребностей было много, в том числе и та, о которой ты говоришь. И сначала я очень гордилась собой, тем, что сделала некий рывок и оказалась на следующей ступеньке. Потом эйфория остыла, потому что «глухого провинциализма» с избытком хватает в любой, даже самой культурной столице. Думаю, останься я в Рязани, я бы написала все те же вещи: это почти не зависит от места, где живешь. Конечно, в Петербурге больше интересных культурных событий, чем в Рязани, но, поверь, Карлсон, не в пирогах счастье. И я, с удовольствием живя почти целый год в «культурной столице», с еще большим удовольствием возвращаюсь на лето к своим рязанским родным и друзьям, которые для меня гораздо дороже какой бы то ни было «культуры».
– Олеся, можно напоследок твои любимые стихи – из собственных – если есть такие? Или, может, тебе сейчас какие-то фрагменты своей прозы больше нравятся? Можно ли сказать, что у тебя, как у многих авторов, есть какие-то вещи, которые можно пафосно назвать «визитной карточкой»?
– Пожалуй, нет никакой «визитной карточки». А само слово «пафос» звучит для меня несколько пугающе. Да и рвать на кусочки прозу я не очень люблю. А вот стихи – всегда пожалуйста. Вот, например, две осенние зарисовки, как раз под нынешнее настроение.
* * *
Щенячий – как всегда – от осени восторг,
От плясок желтых пятен на асфальте.
На женских каблучках шашлык из листьев, из листов
Священной книги. И тепло, бегущее сквозь пальцы.
Еще денек-другой и вовсе убежит,
Восторг щенячий сменится щемящим.
И эта вся желто-оранжевая жизнь,
Взметнувшись под метлой, сыграет в долгий ящик.
* * *
А клены опять под собой насорили.
Ты осень, ты золотко, знаешь, чем взять:
Я тихо дурею от изобилия,
Которым воспользоваться нельзя.
Нельзя – каллиграфией трещин на зданиях,
Ни липким туманом, ни клумбой в воде,
Ни даже качелями в липком тумане,
Отяжелевшими от дождей.
Ни чувством утраты, ни запахом тлена,
Ни тем, что уже удалось завершить.
Черт, ноги промокли до самых коленок.
Все тело промокло до самой души.