Бомбоубежище
Когда началась украинская трагедия, я, как и многие пишущие по-русски друзья и коллеги, ощутил вместе с горем разочарование в том, чем всю жизнь занимался. Оказалось, что написанные нами книги ничего не изменили, никому не помогли и никого не переубедили. В мрачные часы истории по-новому чувствуется потребность в убежище, чтобы перевести дух и уважить Дух, который реет, где, а главное, когда хочет. Вроде бы в такое время можно говорить лишь о боях и жертвах, но это не так.

Чтобы оправдаться, чтобы не считать бессердечным место в башне из слоновой кости или защищать тем более бессовестную позицию «над схваткой», я хочу воспользоваться уроком писателя, который был в схожем положении и вышел из него поучительным образом, оставив нам пример. Во всяком случае, я сразу знал, у кого искать утешения, и с первых дней беды отрывался от фронтовых сводок только для того, чтобы окунуться в книгу, которую знаю почти наизусть, но все равно перечитываю каждый раз, когда, как теперь, от отчаяния не спасает любое другое чтение. Это – «Игра в бисер» Германа Гессе.
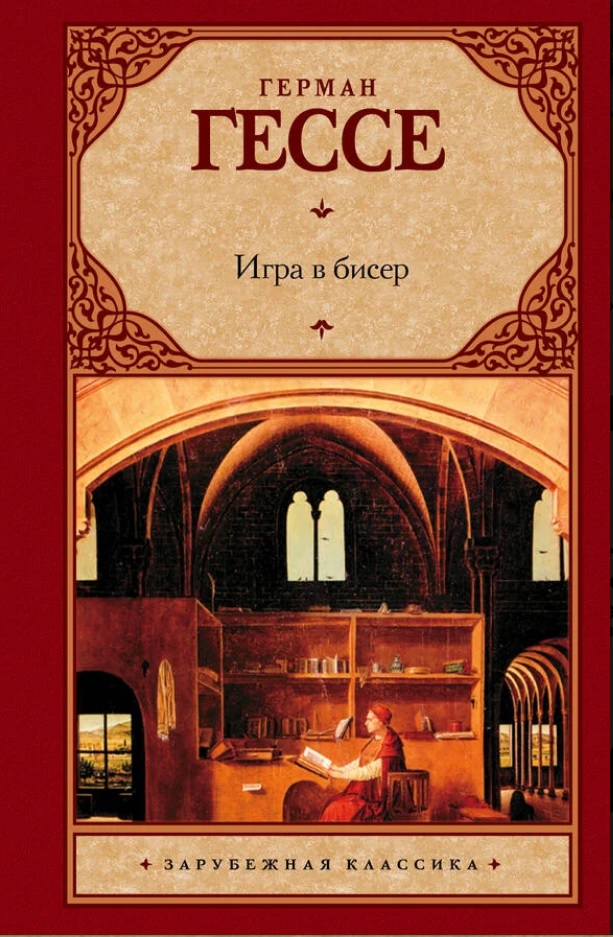
Его урок мне кажется столь важным, потому что он сумел отстоять литературу от другой войны – Второй мировой. Он провел ее в Швейцарии, которая отчаянно защищала нейтралитет. Гессе делал для своей первой родины что мог: поддерживал оставшихся в Германии друзей и единомышленников, помогал беженцам и хлопотал за них перед властями, оплакивал погибших и замученных, обличал нацизм в речах и письмах. Но при этом он четко отделял гражданскую позицию от писательской. Первая неразрывно связана с моральным долгом в изуверскую эпоху. Зато свою вторую ипостась Гессе защищал от войны. Об этом говорит его ответ анониму, который призывал его «писать на актуальные темы», упрекая за желание укрыться от реальности.
На дворе стоял 1939-й. Война уже началась, но Гессе не признавал ее власти над собой.
«Писатель тем и отличается от нормальных людей, – объяснял он свою непопулярную позицию, – что не позволяет войне собой распоряжаться, ибо война, которую мы оба ненавидим, питается своей вечной тенденцией к тотальности».

Герман Гессе
Стоя на своем, Гессе спас немецкий язык от позора нацизма, написав шедевр, за который получил Нобелевскую премию в 1946-м. Представим себе разбомбленную до основания Европу того первого послевоенного года. Миллионы отчаявшихся людей, смерть, голод, разруха. И все знают, что в этом виноваты те, на чьем языке написана книга, удостоенная высшей в мире литературной награды.
При этом в «Игре в бисер» нет ни слова о войне, которая гремела за недалекой границей, но понятно, что Гессе помнил о ней, придумывая свою ученую Касталию. Это чистое царство духа, считал он, – необходимое условие человеческого существования. Орден аскетов и эстетов предназначен для избранных, а нужен всем. «Люди знают или смутно чувствуют, – говорится во введении, – если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к Духу потеряет силу, то вскоре наступит хаос».
Хаос, конечно, наступил все равно, и Гессе даже в Швейцарии видел, куда привела война Европу. Но и тогда он свято верил в спасительную миссию своей Касталии. Вопреки указанному в книге адресу она расположена не снаружи, а внутри каждого, кто о ней мечтает.
Правила
Впервые я прочел роман Гессе зимой 1973 года в пожарном депо рижского автобусного завода, лежа на санитарных носилках в пяди от цементного пола нетопленого гаража. На дворе было минус десять, внутри – не больше. Фанерные стены защищали от ветра, но не мороза, поэтому я лежал в завязанной ушанке, бабушкиных варежках и кирзовых сапогах без портянок, которые так и не научился наматывать. Зато здесь было свежо и тихо. Коллеги пили портвейн за стеной, в жарко натопленной каморке с топчанами и домино, но я завидовал не им, а себе, ибо нашел счастье, а это не с каждым бывает, тем более – в 20 лет. С тех пор моей любимой книгой стал роман Гессе. Из него я узнал о прекрасной Касталии, где избранные мудрецы поклонялись знанию и играли с ним в строгом и просторном монастыре.
Живя в безвыходной стране, я не мог представить идеала прекраснее. Созерцательная жизнь обещала свободу выбора: я мечтал читать только то, что хочется.
В «Игре в бисер» меня интересовала исключительно Игра в бисер, и я постоянно думаю о ее правилах. Прежде всего, как бы мы ни переводили немецкое название, в нем останется «Spiel» – игра, а значит, не труд, не долг, не политика, не религия и – все-таки – не искусство. Вернее, все, вместе взятое, но лишь в той степени, в какой это было бы верно для Олимпийских игр. Такая параллель сама напрашивается. Ведь если спорт и оказывает пользу, то попутно. Олимпийские игры, скажем, улучшают человеческую породу, но только у олимпийцев, редко создающих династии.
Кастальцы, однако, – атлеты не тела, а духа. Они – рыцари знаний, что еще не делает их учеными. Игра отличается от науки тем, что, с одной стороны, она не углубляется до атомарного уровня, на котором все одинаково, а с другой – не обобщается до теории, которая, как это случилось с марксизмом, засасывает в воронку все живое.
Игра в бисер ведется на человеческом уровне генерализации, позволяющем символу остаться вещью, идее сохранить самобытность, цепи – наглядность.
Игра в бисер, пишет Гессе, напоминает «орган, чьи клавиши и педали охватывают весь духовный космос». Играя на нем, кастальцы могли «воспроизвести все духовное содержание мира». Каждая партия, дает вполне техническое определение автор, была «последовательным соединением, группировкой и противопоставлением концентрированных идей из многих умственных и эстетических сфер».
Суть Игры – в ее элементах, в этих самых «концентрированных идеях». Мне они видятся выпаренными иероглифами культуры, понятными «всем людям духа». Игре они служат как ноты – музыкантам, но это письмо намного сложнее и богаче. Знаки Игры – зерна культуры. Игрецы, как называет их Гессе, выкладывают из них красивые и многозначительные узоры, подчиненные предложенной теме.
Можно, например, представить партию, развивающую сквозь века и культуры мотив юродства – от греческих киников, дзенских учителей и хасидских цадиков к Ивану Грозному, Хлебникову, Жириновскому и девицам из Pussy Riot, изгонявшим Путина из модного храма.

Фото East News
Палимпсест
Игра в бисер ищет конкретного и разного, а не универсального и единого. Игра – не религия, хотя она тоже меняет жизнь. Игра – не философия, хотя она признает все ее школы. Что же такое Игра в бисер?
Даже изучив ее правила, трудно понять, как уместить бесконечный хаос культуры в замкнутую и обозримую форму. Понятно, что для этого не годится путь, которым идет энциклопедия, пытающаяся перечислить мир и никогда не поспевающая за ним.
Возможно, это интеллектуальный роман, позволяющий запечатлеть дух времени и сыграть его на сцене эпического полотна?
Томас Манн и Роберт Музиль, верные союзники Гессе, стремились замкнуть мир, воссоздав его центральные идеи. Первый раздал их персонажам, как маски в комедии дель арте, второй повесил идеи на стены сюжетов, словно шпалеры в замке. (У Достоевского идеи насилуют героев, у Толстого подаются отдельно, у Чехова их нет вовсе, за что на Западе его любят больше остальных русских.)
Для Игры в бисер такие романы – слишком длинные. Игра ведь оперирует аббревиатурами, а это – задача поэзии. Не всякой, и даже не лучшей, а той, что от беспомощности зовется философской и пользуется узелковой письменностью перезревшей – александрийской – культуры. Такие стихи – интеллектуальный роман, свернутый в ребус. Такие стихи – гирлянда желудей, каждый из которых – эмбрион с энтелехией, «самовозрастающий логос», как, кривляясь, говорил другой магистр Игры Веничка Ерофеев. Такие стихи – даже не цветы, а пыльца культуры, но собрать ее – участь гения.
Между тем Игра в бисер требует многого, но доступного. К тому же кастальцы, пишет Гессе, исповедуют «полный отказ от создания произведений искусства». Романы и стихи нуждаются в творце, Игра – в исполнителе.
Гроссмейстеры не выдумывают шахматы, они в них играют. Это значит, что игрецы не создают культуру, а исполняют ее.
Каждый день мы отдаем компьютеру все, без чего готовы обойтись: письмо и счет, факты и цифры, прогноз и совет. И с каждым отступлением становится все важнее найти, определить и защитить то, чего не заменить компьютеру. Его могут научить писать, но не читать, конечно, так, как умеют кастальцы. Их Игра в бисер и есть чтение.
Всякий читатель – палимпсест, сохраняющий следы всего прочитанного. Умелый читатель не хранит, а пользуется. Но только Мастер владеет искусством нанизывания. Его цель – не механический центон, а органическое сращение взятого. Он читает не сюжетами и героями, а эпохами и культурами и видит за автором его школу, врагов и соседей. Нагружая чужой текст своими ассоциациями, он втягивает книгу в новую партию. Включаясь в мир прочитанного, она меняет его смысл и состав.
Игра в бисер – теннис с библиотекой, которая рикошетом отвечает на вызов читателя. Успех партии зависит от того, как долго мы можем ее длить, не выходя за пределы поля и не снижая силы удара.
Касталия
Но все же почему игра? И почему сегодня?
На этот вопрос ответил другой ее гроссмейстер – великий голландский культуролог Йохан Хейзинга. В написанной накануне все той же Второй мировой войны книге «Homo Ludens» он начинает с того, что утверждает: можно отрицать почти все абстрактные понятия – право, красоту, истину, Бога, но нельзя отрицать игру. А признавая ее, мы признаем и Дух, ибо какова бы ни была сущность игры, «она не есть нечто материальное». Ценность игры в том, продолжает Хейзинга, что в «исторические периоды тяжелого духовного давления она создает временное, ограниченное совершенство, и порядок, установленный игрой, имеет непреложный характер». Другими и простыми словами – если в футбол играют руками, то это не футбол.
%20-%20%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%20%D0%A5%D1%91%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F.jpg)
Йохан Хейзинга
Разделяя это отношение к Игре, Гессе верил, что больше всего Касталия нужна в безнадежно черные часы истории, когда, казалось бы, не до аристократической и головоломной Игры в бисер. И хлеб от нее не станет дешевле, и пушки не замолчат. Но непрактичная, мало кому нужная и понятная, она спасает мир тем, что оправдывает его – как Бах, стихи или закат.
Игра нужна, чтобы поддержать и воспитать тонкий слой художественной элиты, которая пестует наиболее редкие цветы культуры. Когда падают бомбы, забота об этой интеллектуальной забаве считается бесполезной. Но на самом деле именно Гессе и все на него похожие помогают нам тем, что одичавшему во время войны человечеству есть куда вернуться.
Японцы
Партия, которую я хочу предложить, принадлежит к указанной в источнике медитативно-психологической разновидности Игры и направит нас по адресу, который указал тот же Герман Гессе названием другой своей книги: «Паломничество в страну Востока».
Начать эту Игру следует с одного биографического примечания: мое поколение завидовало по двум направлениям. Одно – обычное – вело по проторенному маршруту к американской прозе, джазу и кино – вплоть до Тарзана, которого Бродский в эссе «Трофейное» приобщил к учителям свободы: «Я утверждаю, что одни только четыре серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем все речи Хрущева на XX съезде».
Другой, еще более экзотический путь, вел на Восток и упирался в Японию. Намного позже я узнал об этом и от Виктора Пелевина, который рассказывал, как играл в японцев, отчего и произошла лучшая глава романа «Чапаев и пустота». В ней герой, наконец, с ними встречается.
%20-%20East%20News.jpg)
Фото East News
«Японцы, – подумал Сердюк, – великий народ! Надо за Японией идти – мы же соседи. Бог велел… вместе эту Америку и дожмем… И атомную бомбу им вспомним, и Беловежскую пущу…».
За длинную ночь простодушный Сердюк случайно и успешно овладел всеми тонкостями японской традиции, включая совершение ритуального самоубийства с учетом новых веяний.
«Если вверх-вниз разрежете, – советует ему дух-искуситель, – христианские аллюзии увидят, а если по диагонали – андреевский флаг. Еще решат, что вы из-за черноморского флота».
В портрете русского «японца» можно увидеть пародию на всех нас, не исключая Пелевина. Но это не отменяет жгучего интереса, который отчасти бывал взаимным. Однажды японский журнал «Бунгей» попросил наших писателей объяснить устройство непростой русской жизни. Я погрузился в историю, а Пелевин – в фольклор, вспомнив выражение «где раки зимуют».
«Поскольку, – утверждал писатель, – русские люди зимуют там же, где и раки, то ясно, каково нам живется.
Видимо, мы казались японцами столь же экзотическими, как они нам. За это они любили наших соотечественников: кто Горького и Шолохова, кто Тарковского и Германа, кто Аллу Пугачеву и Чебурашку.
Избирательное сродство приоткрывает дверь в чужую культуру. Никто не хочет подыгрывать клише и служить примером в иностранном учебнике. Приезжая в Японию, я на четвертый раз примирился с дефицитом энтузиазма ко всему, что нравится нам, и перестал приставать к местным.
«У нас своя Япония, – решил я, – и ее нам перевела Вера Маркова, ее ученики, поклонники и соперники».
Дзуйхицу
Наша Япония начиналась у изголовья, где хранила свои записки придворная дама Сэй-Сенагон. Я еще не встречал писателя, не испытавшего бы к ней зависти. Эта книга создана в жанре дзуйхицу, что означает «вслед за кистью», и кончается годной в дело инструкцией: …я получила в дар целую гору превосходной бумаги. <…> и я писала на ней, пока не извела последний листок <…> для собственного удовольствия, все, что безотчетно приходит мне в голову».
Тут все бесценно: и кисть, и бумага. С первой я встретился, изучая суми-э, живопись тушью, у художницы Кохо Ямамото, державшей школу неофитов в Нью-Йорке. Там я убедился, что нет инструмента мудрее и требовательнее.
Кисть не терпит промедления. Даже мимолетная задержка чревата кляксой. Чтобы тушь не расплывалась, кисть должна постоянно пребывать в движении, как велосипед, если вы не хотите ударить лицом в грязь. Плавность и быстрота такого письма требует сноровки скорее спортсмена, нежели ученого. В последний момент мысль догоняет кисть «безотчетно», что дается труднее всего. Но и в этой милой неловкости кроется очарование непосредственности, отпечаток мгновения, живость которого не омертвела за словно незаметно пролетевшее с тех пор тысячелетие.
Сюрреалисты поколениями практиковали автоматическое письмо и прекратили эксперименты, убедившись в их полной бесплодности. Мало отпустить подсознание на волю, надо еще, чтобы ему было что сказать, точнее – выразить тончайшую эманацию духа, втянутого в драгоценную традицию и не утонувшего в ней. И тогда мы с необъяснимым удовольствием читаем, что «госпожа кошка, служившая при дворе, была удостоена шапки чиновников пятого ранга» и понимаем офицера «Левой гвардии», который нашел «Записки у изголовья» прекрасными и «пустил эту книгу по рукам».
Сам я научился у художницы Кохо лишь двум иероглифам – чтоб подписываться. Один читался «Са», другой – «Ша», и вместе означали «гармоничную личность», что звучало лестно и было далеко от правды. На подпись ушло целое лето, но я не считал, что оно пропало зря. Кисть учила жить, не оборачиваясь, не загадывая и не останавливаясь, – пока, как у Сэй-Сенагон, не кончится бумага.
Она тоже важна, хотя бумагу теперь почти истребили компьютеры.
Бродский, сочиняя эссе о Цветаевой, подклеивал новые листы к тому, что был заправлен в машинку, боясь остановить поток письма и перебить внутренний голос, который может разговориться как раз тогда, когда автор уже готов поставить точку.
Набоков, напротив, писал на карточках. И его тоже можно понять. Формат, словно просодия, создает ограничения и защищает от аморфности. Как кошка любит коробки, так писатель – границы.
Сад
Для поклонников и паломников Япония не страна, а метод. Дзен-буддийский садик может расположиться не только во дворе киотского монастыря, но и в заводском пригороде, придорожном мотеле, а то и в стоящей у меня на столе игрушечной песочнице, к которой прилагается мелкая галька и крохотные грабли.
%20-%20%20East%20News.jpg)
Фото East News
Конечно, мы могли бы найти дзуйхицу дома, скажем, у Розанова, но в мое время экспорт был дороже и ближе сердцу. Вот так западные критики пришли в восторг от «Расемона», решив, что сюжет с разными, но одинаково правдоподобными финалами – специфическая особенность таинственного восточного ума. На самом деле фильм Куросавы для японцев оказался такой же новостью, как и для нас, но было поздно. Начитавшись японцев, мы поверили, что искать нужно не под родным фонарем, а за пределами знакомого – в чужом и древнем.
В том числе у монаха Кэнко-Хоси, который воспользовался опытом давней предшественницы и сочинил в ХIV веке «Записки от скуки». Свой метод он объяснил менее изящно, чем она, зато наглядно:
«Поскольку не высказывать того, что думаешь, – это все равно, что ходить со вспученным животом, нужно, повинуясь кисти, предаться этой пустой забаве, затем все порвать и выбросить».
Но не порвал и не выбросил, раз до нас дошли эти слова сквозь многовековую толщу времени. Чем-то они дороги – и ему, и нам, ибо выражают непроизвольную потребность высказаться. Мысль бродит в голове, будто дрожжи в тесте. Ей надо разрастись и вырваться из молчания на волю. Сильнее любви и голода эта странная нужда гонит миллионы к бумаге и миллиарды – к фейсбуку.
О власти этой страсти я знаю по себе, ибо начал писать еще до того, как освоил весь алфавит. С тех пор мне не приходит в голову останавливаться. День-другой еще ничего, но на третий приходит зуд.
Это чешутся слова. Они толкаются и лезут наружу, мешая друг другу выстроиться в строку.
Волевое усилие сводится к тому, чтобы их сдержать, не изуродовав, не закатать в клумбу, а соединить в безыскусном, но порядке, чтобы умышленное сложилось с естественным без швов и насилия.
Скорее сад, чем книга, такая словесность дышит свободой, избегая сюжета. У японцев она называлась дзуйхицу, у нас – Мандельштамом, и я полжизни назад выписал из него руководство к действию:
Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромой.
Рукопись – всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она – черновик сонаты.
Марать – лучше, чем писать.

Осип Мандельштам в лагере незадолго до смерти
Пробел
У Мандельштама это называлось «писать опущенными звеньями». Соблазн пробела доводил меня до потери сознания, без которого, иногда надеялся я, получается только лучше. Заполнить опущенное – как разбавить шампанское лимонадом: пузырьки вместо праздника. Пустота держит фразу на невидимых распорках и требует от читателя труда додумывания, если не угадывания.
Многих такое раздражает. Пробел кажется прогулом, ленью, вызовом, претензией, кокетством, напрасной надеждой на то, что пустота сама вывезет автора из вырытой им же пропасти несказанного. И все это бывает верным, если речь не идет о мастере, который умело балансирует на краю зияния. В равной степени он полагается на свое ремесло, интуицию и заработанный доверием и усердием счастливый случай. Вот когда вычеркнуть значит добавить.
Дыра в прозе пришла из стихов, которые таким образом боролись с повествованием. Старая филология разделяла поэзию на красоту и содержание, считая возможным стихи пересказать. Но со временем это показалось диким, и все сошлись на том, что поэзия – то, что нельзя сказать другими словами.
С романом это не работает. Из него можно многое вычеркнуть. Скажем, мотивировки, как у Кафки. Или почти все остальное, как у Беккета. Но и в этих крайних случаях сохраняется амбиция искусственно созданного мира со своими законами, пейзажем, границами и персонажами, впущенными писателем в его «Швамбранию» – как бы она ни называлась.
То, что японцы именуют дзуйхицу, а мы – от беспомощности – эссе, включает в себя словесность, располагающуюся между телефонной книгой и вымыслом.
У Мандельштама так написано все, что не в столбик. Его проза работает без остановок и вне жанров. Она склеивается вынужденно, из журнальной необходимости. Если об этом забыть, то все читается подряд и рассыпается на зерна.
Шкловский сравнивал прозу Мандельштама со специально разбитой и склеенной вазой, но надо признать, что черепки не укладываются в пазл, и это лучшее из всего, что могло с ними произойти. Слова и абзацы торчат и ведут в разные стороны. Они набухают почти случайным смыслом, рожденным от брака фонетики с семантикой.
«Москва – Пекин; здесь торжество материка… Кому не скучно в Срединном царстве, тот – желанный гость в Москве. Кому запах моря, кому запах мира».
Легко поверить, что весь этот геополитический пейзаж произошел на свет от аллитерационного стиха: «моря – мира». Окружающие строчки суть алиби для внезапного созвучия. Но за ним, как подводная гряда, стоит могучий и старинный культурологический спор «мирской» Москвы и «морского» Петербурга. Не становясь ни на чью сторону, Мандельштам всегда помнит о своем происхождении, хотя почти готов его променять на пахнущую «сундуком да ладаном» континентальную «шубу», как это случилось в одноименном тексте: «Мы все, петербуржцы, народ подвижный и ветреный, европейского кроя, в легоньких зимних … полугрейках, ни то ни се…»
Кавычки
Я по-прежнему читаю японцев – уже полвека. Листая пожелтевшие книги, вижу, что даже мои карандашные пометки не устарели. Мне нравится одно и то же. «В разговорах с инакомыслящим человеком можно высказываться лишь о пустяках». Или так: «Что ни говори, а пьяница – человек интересный и безгрешный». Или иначе: «Где появляется мудрость, там и ложь, а таланты приумножают суеты».
Обаяние этих слов тем сильнее, чем больше они отличаются от западных афоризмов. Те, как сказал венский мэтр дзуйхицу Карл Краус, говорят «либо полправды, либо полторы».
Японец и не претендует на правду. Он не учит, а замечает, походя и не настаивая, нечто скорее занятное, чем верное, сперва очевидное, а потом парадоксальное, вроде нужное, но и бесцельное. Каждое предложение – цитата из внутреннего монолога, который всякий произносит, не замечая, пока легкий и необязательный жанр не позволит проговорить его вслух. Если пришло в голову, значит, не зря, пусть остается на бумаге.
Пожалуй, из наших современников ближе всех к жанру дзуйхицу подошел матерый филолог Михаил Гаспаров, которым уместно завершить эту партию Игры в бисер. Зная лучше других, как делаются книги, Гаспаров написал пронзительную автобиографию чужими словами: «Записки и выписки». Только спрятавшись за кавычками, автор смог добраться до искреннего, трогательного и своего.
Иллюстрация: Петр Саруханов — «Новая»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В зарослях духовного легкомыслия
Подписывайтесь на телегу «Новой», чтобы наши новости сами находили вас




